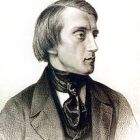Автобиографическая повесть Андрея Белого (наст. имя и фамилия - Борис Николаевич Бугаев; 1880 - 1934) «Котик Летаев», опубликованная в сборниках «Скифы», I, II,—произведение, в котором отразилось увлечение его автора антропософией немецкого философа Арнольда Штейнера.
Евгений Замятин пишет в своей статье "Андрей Белый" пишет о романе «Котик Летаев»: "Предреволюционные годы (1912 - 1916) Белый провел в беспокойных скитаниях по Африке и Европе. Встреча с главой антропософов д-ром Штейнером оказалась для Белого решающей. Но для него антропософия не была тихой гаванью, как для многих усталых душ,- для него это был только порт отправления в бесконечный простор космической философии и новых художественных экспериментов. Самым любопытным из них был роман "Котик Летаев", едва ли не единственный в мировой литературе опыт художественного отражения антропософских идей. Экраном для этого отражения здесь взята детская психика, период первых проблесков сознания в ребенке, когда из мира призрачных воспоминаний о своем существовании до рождения, из мира четырех измерений - ребенок переходит к твердому, больно ранящему его, трехмерному миру".
Мистическая философия А. Белого имела определенное влияние на Есенина, который пишет рецензию "Отчее слово (По поводу романа Андрея Белого "Котик Летаев")"
Современная критика писала о "невнятице", непонятности "Котика Летаева", но приведем лишь один отзыв на первую полную публикацию 1918 года, отзыв Сергея Есенина: "Мы очень многим обязаны Андрею Белому, его удивительной протянутости слова от тверди к вселенной. Оно как бы вылеплено у него из пространства. <...> В "Котике Летаеве" -- гениальнейшем произведении нашего времени -- он зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые от нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи".
Знакомство Есенина и Белого происходит не только не бумаге. Андрей Белый становится крестным отцом сына Есенина Кости. Вот как об этом пишет В.С. Чернявский:
" Не помню подробностей общения его с Белым, с которым я не был знаком. Но зато к новым книгам и стихам Белого он относился с интересом и иногда с восхищением. Нравился ему и, как ни странно, казался лично близким "Котик Летаев". Некоторую кровную связь с Белым он хотел закрепить, пригласив его в крестные отцы своего первого, тогда ожидаемого, ребенка. Но впоследствии крестным его дочки Тани, родившейся после отъезда Есениных из Петрограда, записан был я. Белый крестил второго "есененка" -- Котика." (В.С. Чернявский. Три эпохи встреч (1915--1925)).








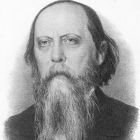
 В письме августа 1920 г. к Городецкому Гумилев писал о Мандельштаме как о поэте, творящем «ценности вечные»: «Он свой во всех временах и пространствах». 21 октября 1920 г. Гумилев говорил о стихах Мандельштама на вечере в Клубе поэтов (в доме Мурузи в Петрограде). Блок оставил в своем дневнике конспект этого выступления: «Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). (...) По Гумилеву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется одно Оно)».
В письме августа 1920 г. к Городецкому Гумилев писал о Мандельштаме как о поэте, творящем «ценности вечные»: «Он свой во всех временах и пространствах». 21 октября 1920 г. Гумилев говорил о стихах Мандельштама на вечере в Клубе поэтов (в доме Мурузи в Петрограде). Блок оставил в своем дневнике конспект этого выступления: «Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). (...) По Гумилеву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется одно Оно)».  В появившейся после гумилевского отзыва рецензии С. В. Штейна (подписано: Ел — ий) говорилось: «В его стихах чувствуется влияние то Ин. Анненского, то его сотоварищей по перу из „Цеха поэтов", вроде г. Гумилева...» (Пермские ведомости. 1914. 4 мая). Страдавший возвращающимся душевным заболеванием, Комаровский умер от нервного шока, вызванного началом мировой войны.
В появившейся после гумилевского отзыва рецензии С. В. Штейна (подписано: Ел — ий) говорилось: «В его стихах чувствуется влияние то Ин. Анненского, то его сотоварищей по перу из „Цеха поэтов", вроде г. Гумилева...» (Пермские ведомости. 1914. 4 мая). Страдавший возвращающимся душевным заболеванием, Комаровский умер от нервного шока, вызванного началом мировой войны. 


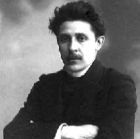





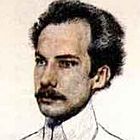 привел еще не опубликованное стихотворение «Ты горишь над высокой горою...» в статье «О теургии» (Новый путь. 1903. № 9). На выход первого поэтического сборника Блока откликнулся вдохновенным письмом (от 14 ноября 1904 г.): «Получил книгу. Спасибо, большое спасибо! Получил громадное удовольствие. Читал и тонул — и ничего больше не хотелось. Хотелось "одного — все того же". Буду писать, если позволишь, статью "Прекрасная Дама в русской поэзии"» (Переписка. С. 184). В конце марта — начале апреля он сообщал о завершении задуманной работы: «...статью "О прекрасной даме" кончил. Она теперь называется "Апокалипсис русской поэзии". Появится в апрельской книжке "Весов"» (Там же. С. 214). В своей статье Белый, в духе владевших им мистико-апокалиптических переживаний, рассматривал русскую поэзию от Пушкина до современности с точки зрения предчувствия и воплощения в ней образа «Жены, облеченной в Солнце»...»
привел еще не опубликованное стихотворение «Ты горишь над высокой горою...» в статье «О теургии» (Новый путь. 1903. № 9). На выход первого поэтического сборника Блока откликнулся вдохновенным письмом (от 14 ноября 1904 г.): «Получил книгу. Спасибо, большое спасибо! Получил громадное удовольствие. Читал и тонул — и ничего больше не хотелось. Хотелось "одного — все того же". Буду писать, если позволишь, статью "Прекрасная Дама в русской поэзии"» (Переписка. С. 184). В конце марта — начале апреля он сообщал о завершении задуманной работы: «...статью "О прекрасной даме" кончил. Она теперь называется "Апокалипсис русской поэзии". Появится в апрельской книжке "Весов"» (Там же. С. 214). В своей статье Белый, в духе владевших им мистико-апокалиптических переживаний, рассматривал русскую поэзию от Пушкина до современности с точки зрения предчувствия и воплощения в ней образа «Жены, облеченной в Солнце»...»

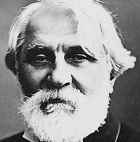
 Родился в купеческой семье. Получил домашнее образование. Дебютировал в печати в журнале «Русский вестник» в 1817. Жил в Москве (1820—1836), затем переехал в Петербург.
Родился в купеческой семье. Получил домашнее образование. Дебютировал в печати в журнале «Русский вестник» в 1817. Жил в Москве (1820—1836), затем переехал в Петербург.