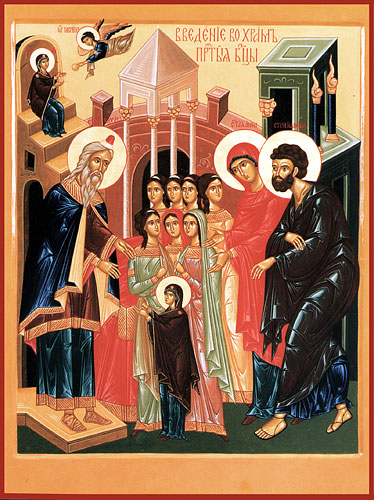Однако даже эти наиболее прогрессивные оценки творчества Гойи в западной искусствоведческой литературе далеко не достигали точности и определенности той характеристики, которую дал Гойе В.В. Стасов. В начале своей статьи Стасов указывает, что «...мы находим у него везде на первом плане, в лучших его созданиях, такие элементы, которые в наше время и, быть может, особенно для нас, русских, всего драгоценнее и нужнее в искусстве. Эти элементы — национальность, современность и чувство реальной историчности».
Стасов особенно подчеркивает высокое значение офортов и картин Гойи на темы национально-освободительной борьбы испанского народа против наполеоновского вторжения и отмечает, что «после Гойи был только один художник в Европе, который подумал и почувствовал то же, что и Гойя на счет войны: это — наш Верещагин». И далее: «В иных картинах своих Верещагин (никогда не видавший гравюр Гойи) сходился с Гойей».
Указывая на особое место и значение Гойи в истории искусства, Стасов заканчивает свою статью словами о значении его творчества для современной борьбы направлений в искусстве: «И вот с этой-то стороны правды, естественности, глубокой мысли, горячего чувства, национальности и историчности, Гойя есть, на мои глаза, лучший и высший художник конца XVIII и начала XIX века. Потому-то мне давно хотелось рассказать нашей публике его биографию, указать его направление.
Как смешны и жалки доктринеры и педанты, подобные Люкке, которые пробуют уверять, что «карикатуры» Гойи — еще не настоящее искусство! Им от искусства все только тот праздный, идеальный хлам нужен, которым всего более загромождены все музеи. Им надо, чтобы душа и жизнь молчали в искусстве».
Статья Стасова "Франсиско Гойя" значительно опередила не только все, что было написано о Гойе за рубежом до нее, но и большую часть того, что было написано впоследствии.
Стасов подтвердил неизменность своей точки зрения на Гойю в своем «Искусстве XIX века», где он писал о нем (и о Хогарте): «Главная их задача и сила—в нападении, в каре всего гнилого и вредного, в высказывании воодушевленного негодования на пошлость, низость и бездушие. Тут они велики, гениальны, мощны, несравненны».

Франсиско Гойя "Маха одетая"